Потом для той же цели людей стали покупать. «Скажешь, что чёрное это белое и что наш Великий Вождь необычайно мудр – получишь квартиру и машину». Ну, иногда можно было ограничиться небольшой суммой денег и талоном на спецобслуживание – это уж кто чего стоит.
Сейчас ничего этого не нужно. Всегда можно найти человека (в том числе «уважаемого и известного»), который скажет всё что угодно просто ради того, чтобы его увидело и услышало множество людей. «Опубликуем». «В телевизор пустим». На это ведутся не меньше, а даже больше, чем на угрозы и подкуп.
Некоторые поведшиеся утешают себя мыслью, что раз пустили единожды, то и дальше будут пускать, «и уж тут-то мы ух». Это, конечно, чушь: отключить от медиа ещё проще, чем допустить, хотя бы потому, что второе вызывает недовольство сидящих в ящике (которым не нужны посторонние) и негодование не попавших («почему он, а не я?»), а вот отлучение радует всех. Помните, как все радовались, что «Дугина выгнали», или там «Новодворскую с Эха пнули»? Вот то-то. «Незаменимых у нас нет», и все это понимают.
Русский язык – нечто вроде профессиональной фотокамеры. Если владеть этим инструментом по полной, знать все кнопочки и настроечки, то можно делать потрясающие снимки. Но если не знать – получается фигня.
Западные языки, наверное, не хуже, но у них есть ещё и автонастройка. Типа как в мыльнице – автоматическая наводка на резкость, выставление светового режима и прочее. Можно не особо морочиться: снимок в любом случае получится хороший.
Кроме того, в русском – поскольку его развитие искусственно остановлено – накопилось дикое количество напряжений. Некоторые очевидны, некоторые замечаются только знатоками. Но мешают они всем.
Ну например. В русском есть тонкая проблема, замечаемая только профессионалами: своего рода неподогнанность абстрактных существительных к глаголам. То есть спектры смыслов диссонируют, режутся.
Вот например. В предыдущем постинге я написал было – «отключение от медиа делается ещё проще, чем включение». На самом деле над глаголом мне пришлось подумать. Сначала я хотел написать «производится» - слово ложилось в ритм фразы и по смыслу вроде бы подходило. Но тут же царапнуло: производить можно какой-то продукт, а здесь речь идёт о действии сугубо непроизводительном. Поставить «происходит» - можно, слово годное, но тогда искажается смысл: кажется, что «оно само так случилось», а не кто-то дёрнул рубильник. «Делается» - тоже не самый лучший вариант, слово топорщится ершом и не лезет, хотя бы из-за позитивных коннотаций «дела». «Совершается» - и слишком торжественно, и, опять же, отдаёт отношением к происходящему как к природному явлению: если нечто совершается, то – само. В конце концов пришлось прибегнуть к банальному – перевести существительное в глагол: «отключить от медиа». Дальше «включение» пришлось поменять на «допуск» (опять же глаголом – «допустить»), что тоже не слишком хорошо… И так далее.
В русском такое сплошь и рядом. В английском же к любому существительному заботливо приложен целый ворох глаголов на всякую нужду, и все они будут более-менее подходящими в большинстве стандартных ситуациий. Не говоря уже о лёгкости образования глаголов из существительных: глаголом можно объявить что угодно, «если надо будет». У нас же каждый такой глагол – ручная работа, да и применять его нужно подумавши, иначе выйдет криво.
Повторюсь: это не «свойства языка», не врождённые его уродства, нет. Это именно что недоразвитие – язык запуган, зашуган, обкорнан и урезан со всех сторон, включая словарный состав. «Обложили Ушаковым, а Даля оставили на понюхать».
) надо работать, а не хочется (



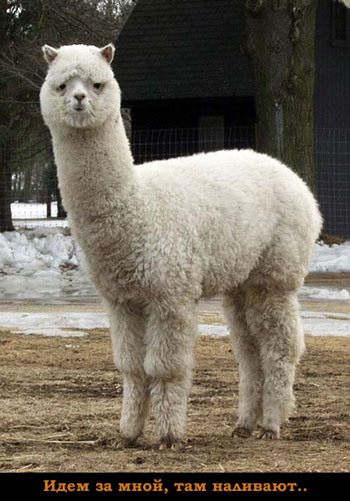

![[info]](http://p-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif)


![[info]](http://p-stat.livejournal.com/img/community.gif)



